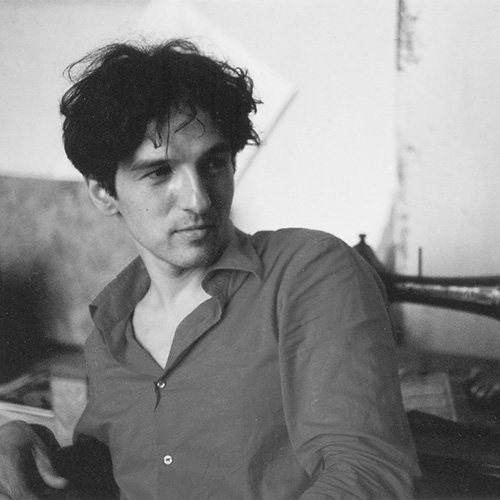Дмитрий Курляндский
Увертюра (начало)
«Сверлийцы» – моя третья опера после «Носферату» и «Астероида 62». Путь от «Носферату» к «Сверлийцам» — последовательный и методичный. После предельного интровертного опыта «Носферату», который является продолжением путешествия внутрь себя, анализом, суммирующим и радикализирующим идеи, накопленные за последние десять лет, мне потребовалась психологическая разрядка. «Астероид 62» – лирическая опера, действующая на территории, не раскрытой в «Носферату» – в чем-то наивная (если возможна сознательная наивность), безответственная, порывающая со всеми принципами и установками, разработанными в «Носферату».
«Астероид» и «Носферату» — как вдох и выдох. И не принципиально, что есть одно, а что – другое, они обуславливают друг друга и очерчивают поле моих композиторских и, как следствие, жизненных интересов. Иначе говоря, «Носферату» и «Астероид» – это я и я. Однако между вдохом и выдохом, между мной и мной существует «межпространство», отделяющее одно от другого и при этом являющее собой нечто третье, таинственная комма (запятая) – разница между одним и тем же… Именно этой разницей и является моя третья опера – «Сверлийцы».
И она увидела свет первой (премьера первой версии состоялась в 2012 году). Уже в этом факте просматривается нечто мистическое. Это машина времени, которая не переносит во времени, а отменяет его.
Для тех, кто знает мою работу, «Сверлийцы» окажутся большой неожиданностью. Я не совсем уверен, что ее можно называть оперой, скорее, формально, это оратория. Однако история помнит примеры опер-ораторий (в частности, «Царь Эдип» Стравинского).
Эта работа лежит в стороне от магистральной линии моих творческих поисков. Я сам не вполне понимаю, как относиться к ней – и как она относится ко мне. Но именно эта дистанция – комма – меня привлекает, именно она является материалом и скрытым действующим лицом оперы.
Важным ключом к восприятию «Сверлийцев» должно быть понимание, что эта опера является стилизацией. Но особенность ее в том, что это стилизация под несуществующий стиль, реконструкция несуществующего языка…
Борис Филановский
Увертюра (окончание)
О работе с текстом:
Непонятность текста для композитора, скорее, плюс. Возможность развернуть свое непонимание в музыкальную форму. Проблема с этим текстом была в другом. Он какой угодно, только не музыкальный. Мне не хватало там просодичности [примечание: просодия – у греков учение о метрике слогов] . Не «певческого начала», а некоторого внутреннего ритма. Это что угодно – инструкция для постановщика, актерский тренинг, философский трактат, тайное учение, mockumentary – но не оперное либретто. Точнее, оперное либретто может быть всем этим, это просто понятия из разных рядов. А работал я над этим текстом, как бы внутренне отменяя его для себя.
О соотнесении с остальным своим оперным опытом:
У меня нет «остального оперного опыта». Есть «Три четыре» на тексты Рубинштейна, но это, фактически, опера для концертного зала. Есть Scompositio, но это тоже, скорее, концертная пьеса, хотя и со сценическим потенциалом.
О том, что открыто в себе во время работы:
Я открыл в себе здоровый пох..изм. То есть я себя отпустил, позволил себе разные шарлатанские трюки и популистские фокусы. Если автор текста позволяет себе все, то и я могу позволить себе все. И даже больше – не быть композитором, а быть компилятором. Составлять эту вещь как лоскутное одеяло. Не из чужой музыки, конечно, составлять; но как бы не фильтровать свои слуховые представления, позволить себе быть медиумом…. нет, медиум слишком торжественное слово. Но позволить себе быть утилизатором ненужных идей, агентом влияния чужого музыкального добра, а также собственного желания писать легко и красиво – желания несомненно постыдного.
О пожеланиях слушателю:
Не надо это слушать, это не я. А если уж послушали, то скорее забыть. Но это, наверное, послеродовая депрессия, и ее не надо принимать всерьез. Однако для меня это оказался очень важный опыт. Будь у меня возможность его повторить, я бы повторил.
Алексей Сюмак
Действие первое
Когда я размышляю о написанной мною опере «Сверлийцы», мне хочется понять чем именно этот проект оказался лично для меня и моего творчества.
Мы все сложные, постоянно меняемся, творческие судьбы художников тесно соседствует, а иногда вплетается в их личную жизнь, часто ей противореча. Кто-то стремится к разрушению, кто-то к созиданию… Друзья знают меня как веселого, порой беспечного, жизнерадостного человека, и удивляются несоответствию моего темперамента со столь драматичными оперными сюжетами, которые мне выбирает жизнь.
Так, моя опера «Станция» – о трагической жизни поэта Пауля Целана, закончившейся самоубийством. Опера «НЕМАЯКОВСКИЙ» начинается с выстрела поэта себе в сердце. Другая работа, над которой я сейчас тружусь, продолжает эту линию несчастных судеб начала ХХ века.
Не могу не упомянуть о симфоническом перформансе «Реквием», которому я отдал год своей жизни. На тот момент мне было 33 года, и я, более, чем лично переживая эту сумасшедшую, безумную трагедию человечества, умирал вместе с моей музыкой.
Но то, чего меньше всего ожидаешь, непременно случается. В моей жизни возникла сказка про Принца, Кентавров, прекрасную Девушку… Сказка, полная мистерии и жизненного света. Сказка, сюжет и герои которой рождаются за пределами нашего реального мира, параллельно живут там и не умирают.
Мне пришлось изобрести свой новый музыкальный язык, нового «себя», и все репетиции я очень внимательно к ним (себе и музыке) прислушивался. И вы знаете, буду откровенным, мне они нравятся!
Хочу сказать большое спасибо огромной команде театра, всем, благодаря кому этот проект смог воплотиться.
Особенно хочу поблагодарить всех будущих зрителей, на плечи которых ляжет самая сложная задача – воспринять, принять и впустить в себя, поверить. И понять, что для нас это жизненно важно!
Сергей Невский
Действие второе (часть 1)
Эволюция поэтики Бориса Юхананова родственна эволюции многих художников, вышедших из андерграунда конца 80-х: от буйной энергии неуправляемого хаоса к очень красивым сложным и абсолютно герметичным артефактам. То, что когда-то начиналось как слом традиций отвердело и приняло законченную форму, подобно куску янтаря, который когда-то был смолой.
Люди, непричастные к контексту режиссера и автора романа, едва ли поймут, в чем содержание оперного сериала «Сверлийцы». С той же проблемой, скорее всего, столкнулись и композиторы, работая над этим проектом. Мы можем только вглядываться в янтарь и угадывать в игре красивых бликов очертания смысла или пытаться создать их самим. Писатель Константин Паустовский, не заставший постмодернизм, но переживший буйство сталинской эклектики, однажды заметил что если на античную колонну повесить красивую картину, будут испорчены и колонна, и картина.
Чтобы избежать участи колонны (или картины) я постарался написать свой участок «Сверлийцев» максимально бесцветным, никаким, стать фоном, на котором игра смыслов заключенная в этом, без сомнения, ярком тексте раскроется во всей красе. Единственное, что интересовало меня как композитора – организация времени и наложение разных историй, идущих параллельно, появление и исчезновение повторяющихся музыкальных фрагментов….
Алексей Сысоев
Действие второе (часть 2)
Текст Бориса Юхананова, по меткому выражению моего коллеги Владимира Раннева, – «интеллектуальный трэш», щедро приправленный (добавим от себя) капризной игрой с реципиентом во «всамделишность», осколками личных мифов и прочими авантюрными изысками. Трудно сказать, как всё случилось бы у меня и во что бы выросла эта история, если бы мне досталась иная часть текста, но то, что досталось, оказалось весьма подходящим для реализации в звуке (оставим в стороне несколько фонетических преград). Рассказ в рассказе, полифоничность и неспешность высказывания, минимум действия, неперегруженность смыслами и проч., продиктовали и выбор формы (которая проросла сама собой) – разросшееся basso ostinato с заключительной постлюдией, где нашлось место и «личным» высказываниям персонажей (Последний Сверлёныш), и отстранённым «бесконечным мелодиям» (Молчаливый Гондольер), и «харАктерным» вокальным ансамблям, и полифоническим репликам хора.
Роль хора в партитуре огромна. По сути, хор и является основным рассказчиком сюжета. Его звучание пронизывает и скрепляет собой всю форму и первой части, и постлюдии. Он выстраивает структуры, заполняет собой всю среднюю часть звучащего диапазона, формирует гармоническую вертикаль. Парадоксально, но при всём своём гигантском объёме, хоровая партитура практически не содержит нот в традиционном понимании этого слова. Услышавшим эту музыку предлагается вопрос – каким же образом нотированы партии хористов?
Вы также увидите и услышите множество предметов (или, скажем, объектов), выступающих в роли музыкальных инструментов. Знающие мою музыку не удивятся, но «новичков» хочу предупредить, что здесь ни в коем случае нет какой-либо иронии или шутки. Всё очень серьёзно и взаправду. Звук электробритвы или пилы так же важен для меня, как и сам жанр пассакалии.
В моём фрагменте присутствует одна-единственная пауза. Течение музыкального времени же не прерывается ни на минуту, лишь в постлюдии сменяясь судорожными репликами-фразами музыкантов и певцов. Впрочем, я и не представляю себе иного способа воплощения единого и законченного музыкального организма.
Я так и не свыкся с необходимостью называть то, что я написал, «оперой». Но это и не опера-оратория, и не «сценическая оратория», и не «эпические» или «лирические сцены». «Фрагмент оперного сериала». Пусть будет так.
Владимир Раннев
Действие третье, действие последнее
«Сверлийцы» Бориса Юхананова – это совершенно отвязный и, при этом, тщательно детализированный текст. Интеллектуальный треш. Игрушечная цивилизация, которая нам явлена через опознаваемые пометы – улицы городов, транспортные средства, бренды ширпотреба, типажи и социальные отношения – выступает глобальной ролевой игрой, обнуляющей реальность. Это род критического, псевдоинфантильного подхода к миру, в котором мы сегодня оказались, и в этом подходе главное – не само наблюдение, а интонация наблюдения.
Подходя к этому тексту, невозможно работать со смыслообразованием, надстраивать слова звуком. Этот текст прослоен двойным и тройным самоотрицанием, и «искать правды», как когда-то Мусоргский, тут как-то даже неловко. Поэтому какое-то время я жил в конфронтации со «Сверлийцами», пока не подобрал ключ к ним. И в итоге у меня все выстроилось в идею музыкальной формы, которая стала самостоятельно работать с текстом как машина. Роман Юхананова, как и он сам (мне почему-то кажется, что, в отличие от некоторой части современных сочинителей, Юхананов и буквы, которые он производит на свет – это одно и то же), в моей опере получился хрупким и трогательным. Он так – хрупко и трогательно – проинтонирован. Но жесткая, даже жестокая звуковая конструкция, в которой он оказывается, закаляет его. И если говорить о какой-то музыкальной драматургии, то она – в сопротивлении материала, интонационного, вокального, частного, интимного, в общем, очень человеческого.
Полтора часа моей оперы – это сквозное действие, там нет номерной структуры, звучание не прерывается ни на секунду. Есть некоторые внутренние соответствия условных разделов музыки и текста (Третье и Последнее действия романа, разделенные двумя Интермедиями), но извне, по эту сторону музыкальной ткани, это членение не прослушивается, все звучит как один полуторачасовой трек. При этом весь текст пропевается без купюр, но нет структуры реплик, диалогов, часто даже речевого синтаксиса. Там всё как бы заряжает друг друга, из одного прорастает в другое. Или одно подталкивается другим. Практически всегда все поют и играют, отдыхать музыкантам в этой партитуре некогда. А в кульминации такое давление звука, что в некоторых местах пара исполнителей – я подглядел – подписали себе в партиях «надеть беруши», то есть громкость немыслимая и это надолго.
Это моя третья – после «Синей бороды» и «Двух актов» – опера, и у меня не было проблем с работой в крупной сценической форме. Был долгий период соотнесения себя с причудливым юханановским миром, а потом вдруг паззл собрался и возникло ощущение, что «мгновенье – и стихи свободно потекут». И действительно, написалось все легко и азартно, за 4 месяца. Параллельно даже успел сделать музыку к спектаклю «Теллурия» в Александринке и поучаствовать в нескольких музыкальных фестивалях. Это удалось потому, что привычного «работать над оперой» – в смысле сидеть где-нибудь на даче в уединении – здесь не потребовалось, я слышал в себе готовую партитуру, все время ходил с нотной бумагой и писал везде где только можно. Выглядя иногда, как я сейчас понимаю, довольно комично. Меня несло. И, как правило, это хороший знак. В чем я потом убедился на репетициях – мне понравилось то, что получилось. Надеюсь, не только мне.