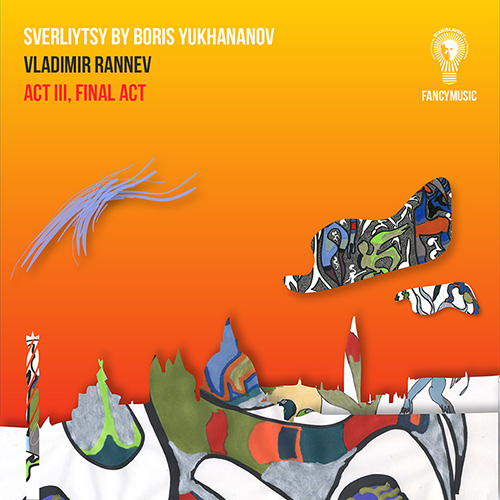
Филипп Чижевский: дирижер
N’Caged Ensemble
Алёна Парфенова: сопрано
Сергей Малинин: тенор
Андрей Капланов: бас
Questa Musica
Татьяна Кокорева: сопрано 1
Мария Грилихес: сопрано 2
Мариам Аветисян: альт 1
Анастасия Полянина: альт 2
Александр Феодулов: тенор 1
Евгений Сапелов: тенор 2
Николай Басов: баритон
Василий Коростелев: бас
Moscow Contemporary Music Ensemble
Иван Бушуев: флейта
Олег Танцов: кларнет
Илья Феропонтов: труба
Ростислав Квасов: тромбон
Дмитрий Щелкин: ударные
Михаил Дубов: фортепиано
Сергей Чирков: аккордион
Дарья Дверник: скрипка
Регина Костанди: альт
Анна Щеголева: виолончель
Антон Изгагин: контрабас
Подходя к этому тексту, невозможно работать со смыслообразованием, надстраивать слова звуком. Этот текст прослоен двойным и тройным самоотрицанием, и «искать правды», как когда-то Мусоргский, тут как-то даже неловко. Поэтому какое-то время я жил в конфронтации со «Сверлийцами», пока не подобрал ключ к ним. И в итоге у меня все выстроилось в идею музыкальной формы, которая стала самостоятельно работать с текстом как машина. Роман Юхананова, как и он сам (мне почему-то кажется, что, в отличие от некоторой части современных сочинителей, Юхананов и буквы, которые он производит на свет – это одно и то же), в моей опере получился хрупким и трогательным. Он так – хрупко и трогательно – проинтонирован. Но жесткая, даже жестокая звуковая конструкция, в которой он оказывается, закаляет его. И если говорить о какой-то музыкальной драматургии, то она – в сопротивлении материала, интонационного, вокального, частного, интимного, в общем, очень человеческого.
Полтора часа моей оперы – это сквозное действие, там нет номерной структуры, звучание не прерывается ни на секунду. Есть некоторые внутренние соответствия условных разделов музыки и текста (Третье и Последнее действия романа, разделенные двумя Интермедиями), но извне, по эту сторону музыкальной ткани, это членение не прослушивается, все звучит как один полуторачасовой трек. При этом весь текст пропевается без купюр, но нет структуры реплик, диалогов, часто даже речевого синтаксиса. Там всё как бы заряжает друг друга, из одного прорастает в другое. Или одно подталкивается другим. Практически всегда все поют и играют, отдыхать музыкантам в этой партитуре некогда. А в кульминации такое давление звука, что в некоторых местах пара исполнителей – я подглядел – подписали себе в партиях «надеть беруши», то есть громкость немыслимая и это надолго.
Это моя третья – после «Синей бороды» и «Двух актов» – опера, и у меня не было проблем с работой в крупной сценической форме. Был долгий период соотнесения себя с причудливым юханановским миром, а потом вдруг паззл собрался и возникло ощущение, что «мгновенье – и стихи свободно потекут». И действительно, написалось все легко и азартно, за 4 месяца. Параллельно даже успел сделать музыку к спектаклю «Теллурия» в Александринке и поучаствовать в нескольких музыкальных фестивалях. Это удалось потому, что привычного «работать над оперой» – в смысле сидеть где-нибудь на даче в уединении – здесь не потребовалось, я слышал в себе готовую партитуру, все время ходил с нотной бумагой и писал везде где только можно. Выглядя иногда, как я сейчас понимаю, довольно комично. Меня несло. И, как правило, это хороший знак. В чем я потом убедился на репетициях – мне понравилось то, что получилось. Надеюсь, не только мне.
Владимир Раннев
In approaching this text, I could not undertake creating meaning or attuning words by means of sound. This text consists of two or three layers of self-negation. For that reason I spent a good deal of time living in conflict with Drillalians before I found the key to it. Ultimately, everything took up position in the notion of a musical form that independently interacted with the text as might a machine. In my opera Yukhananov’s romance comes across as fragile and touching. That is, it is given a fragile and touching intonation. But it is tempered by the harsh, even fierce, sound structure in which it is set. If there is a certain musical dramaturgy here, it would be found in the resistance of the material, which is intonational, vocal, individual, intimate, and, in short, quite human.
The hour and a half of my opera is a through-line. There is no numbered structure; the music never stops for so much as a second. It is one 90-minute track. In its culmination it achieves such volume that, in places, a couple of the performers (I peeked) made notations in their sheet music to “put on earmuffs.” That’s how crazy loud it gets, and it lasts a long time.
This is my third opera, following “Blue Beard” and “Two Acts”, and I had no problems working in a large, scenic form. It did take awhile for me to find an approach to Yukhananov’s eccentric world. But then the puzzle came together quickly and I began to sense that “in a moment, poetry would begin to flow.” In fact, it did, and I wrote everything easily and zestfully in four months’ time. During the same period I was even able to create the music for a production at the Alexandrinsky Theatre called “Telluria”, and to participate in several music festivals. That was possible because I just didn’t need the old routine of “working on an opera,” in the sense of sitting in isolation somewhere in a country house. I could hear a ready score in my head; I carried note paper with me everywhere and I wrote anywhere and everywhere I could. I realize now I must have made quite a comical picture. But I was “under the influence.” And, as a rule, that’s a good sign, something I confirmed later during rehearsals, because I liked what I heard. I hope that’s true not only of me.
Vladimir Rannev